Нина Артеменко. Не стоит село без праведника
Заметки фольклориста …
«Если сказать современному (…) интеллигенту, демократу, национал-патриоту, монархисту, казаку, что главным в Русской Душе и в творчестве парода всегда было преображение души в «новую тварь», во образ Христов на путях науки духовно-молитвенного подвига, каковым занимались (старались заниматься), как каждодневным важнейшим практическим делом русские люди, от крестьянской избы до Царского дворца,- ответом будет полное непонимание и удивление! Скажут: «Не может быть! Ведь мы знаем (!) историю; это могло быть уделом отдельных подвижников и монахов, но чтобы всего народа — так не было!» Было! И истории мы просто не знаем! Потому и не можем понять до сих пор, почему миллионы (!) русских, вся сущая в России, поголовно, без остатка, Святая Русь без сопротивления и ропота пошла на смерть за веру, за пребывание со Христом в Его Небесном Царстве, а не взялась за оружие, чтобы убивать (…) ради сохранения своего земного бытия!..»
Прот. Лев Лебедев. «Великороссия: Жизненный Путь»
Конец февраля для многих любителей русской деревенской прозы связан с памятью Фёдора Александровича Абрамова (1920-1983 гг.). В дни празднования очередной даты со дня рождения писателя, чье бесстрашное, правдивое слово призвано было «будить Человека в человеке», хочется вспомнить лучшие страницы его произведений, до сего дня не утратившие своей актуальности и художественной ценности. И среди них, пожалуй, главное произведение, к которому Фёдор Александрович шёл всю свою творческую жизнь — роман-эпопею «Чистая книга».
Задуманная как «роман о Гражданской войне на Севере» и оставшаяся незавершённой, «Чистая книга» должна была раскрыть перед читателем и философско-этические истоки русской трагедии, разыгравшейся в первой половине 20-го столетия, и размышления автора о жизни и смерти, о бессмысленности братоубийственной войны и пагубности для развития человеческой цивилизации диктатуры выхолощенной, богоборческой идеологии. Многие важнейшие для автора мысли — о вере и безверии, о красоте и нравственности, синонимом которой становится чистота, — реализованы в набросках к роману: «Истоки жизни сами по себе чистые. И земля, и лес, и реки — всё хорошо. Чистый человек, который помогает жизни, природе. Не красота, а чистота спасёт мир. Красота бывает страшной, опасной, а чистота всегда благодетельна, всегда красива. К чистоте надо вернуться».
Через все сложные, трагические перипетии романа с множеством разнохарактерных, точно очерченных образов — крестьян и сельской интеллигенции, ссыльных революционеров и представителей духовенства — проходит любимейший Абрамовым эпический образ Махоньки. Прототипом этой «ветхой старушонки», нищенки и сказочницы, послужила выдающаяся пинежская сказительница Марья Дмитриевна Кривополенова. По замыслу автора, Махонька «человек в самом высшем смысле. В этой полуграмотной старухе наиболее полно реализовалась идея человека» (из набросков к роману). Махонька, идущая на передовую и пытающаяся «вещим словом» примирить враждующие стороны, «…ничего не боялась. Чего бояться, когда с ней слово… Не от мира сего… Небывалый человек… Чудо в образе человеческом. Чудо, в котором теряются границы между плотью и духом. Где плоть переходит в дух».
Деревенская странница, чья нищета и внутренняя свобода давали ей «доступ… к самым главным кладам на земле», в числе коих — «человеческое общение», и чья творческая воля, фантазия сказителя-былинщика не знала преград ни временных, ни пространственных, стала обобщенным образом народного певца-самородка. Именно этот образ воплотил в себе главную идею романа — идею великой преобразующей роли Слова. В ее уста писатель вкладывает свои самые сокровенные, выстраданные мысли: «Во как ране слово-то почитали. А мой-то дедушко, Данило Васильевич, всё мог: и молитву сотворить, и тоску с человека снять, и море усмирить… Я что, я оскрёбышек, я веточка. А вот дедушко — так дерево. Тот былиной-то бури на море укрощал, лето зимой в избу приводил… Медведя отгонял. Бывало, в лес-то пойдет, станет в избушке ночевать: на версту не подходите, звери. И те не подойдут».
Так по-крестьянски простодушно и смиренномудро наследница и носительница народного художественного гения выразила то, к чему Абрамов-мыслитель приходит в конце непростого, мучительного пути творческого и духовного становления[1]: «Слово всегда было путеводной звездой человечества. В слове сокрыта самая великая энергия на Земле,- энергия человеческого духа. Словом создавалась культура, словом ковалась вера, ковались идеалы, слово двигало народы в борьбе за равенство и братство… и сегодня, в век неслыханной, небывалой спекуляции словом… необходимо вернуть слову его изначальную мощь и силу».
Автор великих романов «Дом», «Братья и сестры», цикла рассказов «Трава-мурава», возродившего в русской литературе жанр притчи, как никто другой, знал цену слову, которое — брошенное по неосторожности или злонамеренно — может обернуться большой бедой. «Слово небезобидно. Слово — дело. Революция — это результат великого выброса в народ слов, начиненных динамитом. Слово может погубить, — писал он в дневнике за 1983-й год, еще до начала эпохи «гласности». — Церковь призывала… к умиротворению страстей человеческих, а революционеры и литераторы взорвали вулканы, которые таил в себе человек».
И чем талантливее это слово, тем строже необходимо поверять его Евангельским предречением «От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься» (Мф., 12, 37). Но столь высокая мера ответственности не всегда оказывается нам по силам.
Как-то фольклорному ансамблю «Домострой» довелось выступать в Российской Национальной Библиотеке на собрании участников всероссийского крестного хода к месту гибели Царской семьи. Рассказы об этом удивительном паломничестве, истинное духовное подвижничество, проявленное людьми, внушали глубокое уважение. Однако, исполненные на вечере стихи С. Бехтеева «Шумит народ, тупой и дикий», посвящённые казни Царя-мученика, вызвали в нас бурю самых разноречивых чувств. Страшный, но заслуженный упрек, брошенный в своё время поэтом в адрес цареубийц и распинателей царской России, прозвучал вызовом народу, который за свою многовековую историю прошёл все круги ада, пережил ужасы военного коммунизма, гонений и репрессий, мёрз в «теплушках» лесоповалов; который дошёл до Рейхстага и спас мир от гитлеровской газовой камеры. Стало невыразимо стыдно за всё происходящее, за ту преступную лёгкость, с которой мы, мирно сидящие в уютных креслах, участвуем в судилище над нашим народом.
К несчастью, вновь находятся «клеветники России», бесчестные «витии», не удержавшиеся от соблазна — направить против нас самих наше покаянное слово. Семя, посеянное поэтом много лет назад, проросло «волчцами», дав толчок гнусной кампании клеветы и шельмования, развернутой в РУНЕТЕ на одноимённых сайтах.
Что греха таить, мы, родившиеся и выросшие в России, любим рассуждения о пресловутой загадочности нашей души. И, кажется, всё-то про неё знаем. Ещё более мы любим обнажить перед всем миром наши внутренние язвы и нестроения. Как мы гордимся своим умом и дальновидностью, когда ниспровергаем героев нашей истории, ничтоже сумняшеся обвиняя во всех мыслимых и немыслимых грехах «и царя и смерда». Конечно! Ведь они не встанут из могил и не отведут удар, не дадут нам сдачи за нанесённые несправедливые обиды!
Признаемся, что и наша классическая русская литература (в особенности, её школьная интерпретация), наряду с бесспорным просветительским, воспитательным воздействием, приучила нас с холодной рассудочностью, в духе «критического реализма» подходить к оценке исторических событий, роли той или иной исторической личности. Мы скорее доверимся любой негативной информации, нежели попытке понять и оправдать, предав забвению пушкинский завет о «милости к падшим». Оттого мы молчим, когда рафинированные западники, приверженцы европейского истеблишмента или рекламно-журнального гламура, презрительно морщатся от нашей неказистой «русопятости» («навозной России», по выражению одной из сериальных кино-героинь), упрямой приверженности «отеческим гробам».
Увы! остаётся вслед за основоположником учения, известного своей свирепой ненавистью к «посконной», крестьянской Руси, воскликнуть: «страшно далеки они от народа!».
***
За годы общения с народными исполнителями, из вереницы встреч с носителями народных традиций в архиве фольклориста-собирателя складывается не только собрание уникальных фольклорных материалов, но и целый патерик безвестных подвижников благочестия, сохранивших и в годы духовного безвременья «святыню под спудом».
«Не знаем, не знаем своего народа», — сетовал Ф. А. Абрамов в «Чистой книге». Действительно, впечатление простоты, «необразованной дикости», которое производят на горожанина наши сельские старики, оказывается достаточно обманчивым. Глубина их мировосприятия, их исторической памяти открывается лишь внимательному, любящему взгляду. Не утруждающему себя поиском истины или неопытному исследователю сложно бывает продраться сквозь дебри внешних наслоений, житейских попечений, наполняющих жизнь любого человека, к её первооснове.
Если начать расспрашивать народных певцов, к примеру, о догматах христианской веры, о сложных богословских категориях, пользуясь специфическими формулировками и терминологией, то, скорее всего, ничего вразумительного вам не ответят. Вряд ли смогут они канонически верно объяснить и смысл текстов праздничных тропарей и ирмосов, которые помнят и исполняют с детства. Вместе с тем, при погружении в ту или иную фольклорную традицию, в беседах с пожилыми исполнителями не покидает волнующее ощущение их безотчётного, а подчас и вполне осознанного «богопредстояния», «хождения в памяти Божией» — того «умного деланья», о котором писали великие учителя нашей Церкви.
Вспомним изумительные по наблюдательности и меткости языка страницы очерков Г. И. Успенского «Крестьянин и крестьянский труд», «Власть земли». Рассуждая о набожности русского крестьянина, Успенский замечает: «Иван Ермолаевич в Бога верил крепко, непоколебимо крепко, близость Бога ощущал почти до осязания, а молитвы читал по-своему: «Верую во Единого Бога Отца, — учил он сынишку, — и в небо и землю. Видимо невидимо, слышимо неслышимо. Припонтистился еси, распилатился еси…».[2] Гармоническое единство всего сущего, земного и небесного, присущее крестьянскому сознанию, распространяется на все сферы его жизнедеятельности, и это неизменно будоражит исследовательскую мысль писателя, восхищает и притягивает к себе взгляд:
«…Вдруг вдали на деревне грянул звонкий девичий хор; старик поднял голову и, слушая песню, сказал:
— Ишь горло-то дерут! Урожай ноне… Бог послал…
Хор зазвенел ещё звончей и громче.
— Картофь, должно, Господь уродил ноне, — прибавил старик в объяснение слишком звонкого пения».
В основе этого единства лежало устоявшееся представление крестьянина о Творце вселенной как о Любящем, Милосердном Отце, любовь Которого не оскудевает, «не престает». Любовь наполняет и жизнь каждого человека, приникшего к этому Источнику Жизни.
Как-то, входя в дом к одной из старейших жительниц тверской деревни Новосёлки, Д. А. Ветерковой, мы увидели в красном углу икону Спасителя в необыкновенно веселых бумажных цветах и, приветствуя хозяйку, широко перекрестились. Дарья Андреевна просияла: «Я тоже Бога люблю! Я Его…подбадриваю!». Переглянувшись от удивления, мы ждали продолжения. И с первой же минуты, когда «сердце сердцу весть подает», встреча приняла самый что ни на есть философски-богословский оборот. За «подбадриванием» же, как выяснилось, скрывался давний народный обычай ухода за иконами, включающий их «мытьё» в реке, украшение к празднику новыми цветами и чистыми вышитыми полотенцами. Кто-то может усмотреть здесь лишь обрядоверие, далекое от сути христианства. На первый взгляд, да. Но вспомним и то, через какие испытания наши бабушки пронесли своё обрядоверие, а справедливее сказать, веру. Сколько истинной любви и нежности в этой простодушной вере. Где были тогда мы, такие умные и смелые?! Не пылились ли наши святыни в шкафах и на задворках сознания?!
Вера народа, что «Господь не без милости!», вера в «бесприкладность» Христовой Любви к человечеству, позволяет ему, невзирая на сознание своей греховности и недостоинства, обращаться с дерзновенной молитвой к Богу.
Пожилой житель села Ильинско-Подомского Архангельской области, ревностный прихожанин возрожденной в селе церкви Ильи-Пророка, в разговоре о том, о сём, о прошлом и настоящем Церкви неожиданно воскликнул: «А я Бога… ругаю: как же Он меня, дурака, милует!..». Уважаемый человек и добрый христианин, в 60-е годы проходивший пешком десятки километров, чтобы попасть на церковную службу, не вменяет это себе в заслугу.
Народная традиция, в которой скорее видят суровость нравов, жесткую регламентацию, иерархичность патриархально-общинных отношений, растворение личности в «коллективном бессознательном» и т. п., нежели модель гармонического жизненного устройства, являет нам подчас образцы величайшего благородства и красоты человеческих отношений, высоты истинно христианского духа.
Пронзительную историю человеческой любви и верности, передаваемую из поколения в поколение, мы услышали в деревне Горка Тверской области. В России конца 19-го-начала 20-го веков существовала, помимо военной службы, еще одна форма рекрутского набора — т. н. «пригон». Так однажды приехали в деревню «пригонятые» (чиновники, осуществляющие набор), забрали парня на государственные работы, строительство ли дороги или другого объекта, осталась невеста. Вернулся он через 25 лет «бородатым мужиком», заслал сватов, и не к кому-нибудь, не к молодой девице, а к своей постаревшей невесте. Сыграли свадьбу по полному чину, с причитаниями и песнями, и «детей еще родили!». И ведь не то вызывает удивление, что женщина дождалась любимого — подобному несть числа, — но настоящий мужской поступок, любовь, над которой не властно время.
Теплом любви и ласки дышат и вполне юмористические рассказы из жизни деревни. Как-то на просьбу рассказать о примерах доброй супружеской жизни нам поведали о муже, который часами не отходил от своей жены, примерявшей наряды, помогая ей одеться к празднику. Когда же та работала за «кроснами» (ткацким станком), заботливый муж заворачивал и поддерживал готовую ткань. «Если жена застилает полы дорожками, то муж уже с другого края поправляет», — с лёгкой завистью рассказывали женщины.
В тверских деревнях, по свидетельству жительницы д. Кривцово А. Ф. Спиридоновой, о хорошем, заботливом муже, существовала поговорка: «он ее (жену) забегает!», т.е. — «первым идёт мириться», не помнит зла.
О подобных взаимоотношениях любящих, очевидно, пелось в народной казачьей песне:
…А теперя, милка, нас с тобою двое:
Да ты вздохнёшь, а я повторю…
Большое, порой решающее значение для всей дальнейшей жизни человека придавали крестьяне родительскому благословению. Сделать что-либо без благословения старших в семье было равносильно нарушению воли Божией, за которым непременно последует и вразумление. В народной песне-балладе «Из-за лесу, лесу тёмного» афористично, через устойчивые словосочетания и рифмы раскрываются эти причинно-следственные связи:
…Шла девка в гости да не спросиласе,
В тёмном лесе млада заблудиласе,
Во росе ли вся перемочиласе…
Вплоть до 20-х-30-х годов 20-го века в деревне сохранялось такое распространённое в прошлом явление, как браки «силом», т. е. по воле родителей. В большинстве случаев эта обычная практика не вызывала протестов со стороны молодых. «Из воли родительской не выхожу», — отвечала невеста в знак согласия на брак. Тем не менее, зная, сколь неоднозначную, а чаще резко негативную оценку это явление вызывает в либерально настроенном обществе, писатель и этнограф, глубокий знаток русского фольклора Д. М. Балашов замечает в этой связи: «Не защищая патриархальной старины, надо сказать, однако, что количество благополучных и попросту счастливых семей было не меньшим, чем сейчас. Браки, заключаемые молодыми людьми под влиянием увлечения (а увлечения, увы, проходят!), подчас оказываются менее стойкими, чем браки по трезвому родительскому расчету. Прибавить нужно большую, чем сейчас, традиционность бытовых условий, большее единство вкусов и привычек» (Д. М. Балашов, Ю. И. Марченко, Н. И. Калмыкова, «Русская свадьба»).
Жительница казачьей станицы Калитвенской рассказала нам поучительную историю о молодых людях, женившихся по любви и получивших «благословение камнем». Отец жениха никак не мог смириться с выбором своего сына и как-то при встрече с невесткой с досады бросил в нее камень. Молодуха не подала виду, что обиделась, подняла камень, завернула в тряпицу и принесла в дом. Жили молодые дружно, родились дети, и всего в их доме было вдоволь. Много лет прошло, стали судачить соседи, намекать старику, что, мол, «смотри, как дети-то твои ладно живут, сходил бы, проведал!» Отец, уняв сердце, послушался доброго совета. Радости детей и внуков не было конца. Прощаясь, свёкор решил всё же спросить, как же так получилось, что всё у них так складно и ладно. Невестка в ответ указала на камень, лежавший у них подле икон, в «святом углу» — отцово «благословение»: «Всё с него, с камня пошло!..».
***
Возвращаясь из фольклорной экспедиции, обмениваясь впечатлениями, собиратели непременно рассказывают о трогательном гостеприимстве сельских жителей, об их самоотверженной помощи и заботе. На памяти каждого из нас десятки восхитительных историй.
Как-то в лесу, по дороге в деревню, группе студентов повстречалась старенькая бабушка. Шла она, согнувшись почти до земли и опираясь на батожок. Мы, как водится в северной деревне, поздоровались. Бабушка остановилась, внимательно глянула на нас, лицо ее, изрезанное морщинами, лучилось добротой: «Вы издалёка? Да вы ж, чай, голодные!?» Ни к чему не обязывающая встреча, и всё же человек, воспитанный в традиционной нравственной системе, одаривает случайных встречных добрым словом, сочувствием.
Еще картина, врезавшаяся в память. Раннее утро. Заходим в первый незнакомый деревенский дом, здороваемся. Хозяйка средних лет высыпает в миску лукошко земляники и, заливая её молоком, зовёт с порога нас: «Садитесь, девчата, хлебайте!». Мы не в силах отказаться и с восторгом уписываем землянику, которую женщина собирала, верно, не один час.
Не раз приходилось ночевать у наших дорогих исполнителей и слышать, как хозяйка приговаривает, заботливо укладывая спать: «Спи, жалкая моя, как у мамушки родной!». Ведь «ночлег с собой не носят», гласит русская пословица. Окружить заботой, чтобы усталый путник ни в чём не нуждался — это первейшая заповедь всякой хорошей хозяйки. Выкупать в бане, досыта накормить «чем Бог послал», постелить новые, «невладанные» простыни. А бывает, и предложить в подарок…свой дом!
О честности, бескорыстии, «непостыдной совести», как говаривал Н. С. Лесков, сельских жителей хорошо известно. Но одно дело, слышать, читать о ней, другое — увидеть своими глазами. Как-то мне с группой друзей-собирателей нужно было перебраться за реку. На пустынном — ни души! — берегу Пинеги стоял катер, «всеми забытый» и похожий на груду вросшего в песок металлолома. Зайдя внутрь этого ископаемого, мы увидели на полу, на тряпицах спящего (или..?) человека. Оказался он машинистом и кассиром в одном лице. Мы предложили деньги за перевоз. Оторвав четыре билета (настоящих, стоимостью 1 руб.!) вместо пяти, он выдал нам сдачу и «лишний» рубль. Мы, желая доставить парнишке совсем не лишний, в голодные 90-е, заработок, указали на пятилетнюю дочку наших собирателей: «А еще один билет?» И услышали в ответ: «А когда вырастет, тогда и заплатит!»
Чувство юмора, улыбка, терпимость к человеческим немощам — качества, которые не дают человеку свалиться в пропасть уныния и ропота, скрашивают не всегда простую, комфортную жизнь. Думаю, что услышанный нами много лет назад в вологодской деревне рассказ утешил бы не одну обременённую малыми детьми молодую мать! (Омбудсмены отдыхают!) Переходя из деревни в деревню, как-то зашли мы, проголодавшись, в «сельмаг». Женщины в очереди за хлебом привычно переговаривались. Мы, как водится, «времени не тратя даром», присоединились к беседе. В этой деревне жила женщина, мать семерых детей, лет 25-ти, худенькая, измождённая. И каждый год «носила детей»! Она приходила в магазин — а других продуктов, кроме хлеба, сахара и крупы саго, в те времена там и не было! — и, как все, вставала в очередь. В это время ребятишки, мал мала меньше, возились в придорожной пыли, дожидаясь её на улице. (О! как мы, дети 60-х-70-х гг., любили эти игры «в камушки», «в стёклышки»!) Многие её осуждали, укоряли детьми, мол, «грязные, голодные», «зачем столько нарожала», а та неизменно отвечала: «Вырастут — вымоются!» Кто бывал на Русском Севере, знает, что такое чистота для домовитой, опрятной, рукодельной северной хозяйки. Где бельё, не по заведённому порядку развешенное для просушки, или одни и те же занавески в окнах «и на тот год» могут стать предметом для осуждения за лень и нерадение. Но заповедь «не убий» оказывается важнее требований этикета и соседских пересудов.
Ещё одна зарисовка, зафиксированная собирателем в полевом дневнике. Восемь часов утра. Ленинградский гость еще сладко потягивается после затянувшейся до полночи записи. Хозяин же дома, дед, ходит в нетерпении вокруг него, не может добудиться: «Ну, и красён ты, Юрий Иванович, спать!» А Юрию Ивановичу не многим больше 20-ти! И там же, в тетради, рассказ хозяйки: «Меня поутру мамушка будит. А я сплю-тороплюсь!»
Случалось, что талантливые певцы, не жалевшие часы и дни на встречи с фольклористами, покрывали и их собственные профессиональные «проколы». Так однажды, будучи еще студенткой и идя на запись, я с размаху растянулась, переходя единственную попавшуюся в поле лужу. Магнитофон с набором батареек упал «оккурат» в грязь. Горю моему не было предела, так как свет в деревне давали лишь на время вечерней дойки, и запись срывалась. Марфа Ефимовна — хозяйка и запевала местного ансамбля — деловито, по-крестьянски затопила печь, нагрела на плите тяжеленный чугунный утюг и на глазах у изумлённых гостей стала сушить утюгом размокшие батарейки! Не забыть многочасовую запись, в конце которой парализованная женщина слезла с печи и пустилась в пляс, и трогательное прощание с песнями, которыми провожали когда-то в солдаты, с молитвой «на дорожку» и крестным знамением.
Подобное отношение к путнику, случайному гостю было для русской деревни повседневной этической нормой. Отказ в подаянии, помощи человеку, оказавшемуся в нужде, однозначно осуждался в народе, и об этом свидетельствует записанная нами северная дразнилка, исполнявшаяся в адрес скупых хозяев нищими странниками: «Водохлёбы некрещёные, из воды багром тащённые!».
В голодные годы Великой Отечественной войны женщины-колхозницы принимали детей, вывезенных из блокадного Ленинграда или оккупированных территорий. В Устьянском районе Архангельской области известен случай, когда у старушки, взявшей на воспитание младенца, появилось грудное молоко. То же рассказывали и о молоденькой девушке, выкормившей грудью малыша.
Некоторые встречи с народными исполнителями напоминают подлинные житийные истории. Так, в станице Натухаевской под Новороссийском старенькая женщина, которая не заметила даже серьёзного землетрясения, произошедшего несколькими днями позже, при нашем появлении заметалась:
— А ко мне ноне во сне хвырахвшут (парашют) прилетал: «Дьяченко, Дьяченко, собирай хор, сейчас приедут записывать!».
В хуторе Коньков Ростовской области хозяйка, с порога усадившая нас за стол, с удивлением рассказывала, что в тот день «зачем-то наварила семилитровую кастрюлю борща, а есть его некому». Всё разъяснилось, когда на дворе показалась группа из 10 человек, промокших и голодных.
Эти, казалось бы, незначительные эпизоды рождали ощущение явственного Божьего «водительства», не покидавшего нас на всех экспедиционных путях-дорогах. Оно же заставляло серьёзнее, ответственнее (со страхом Божьим!) подходить к любимому делу.
В одной из деревень же на р. Пинеге бабушка, некогда замечательная песельница, по окончании записи поклонилась до земли, попросила прощения и сказала без тени грусти, что теперь может умереть. Легла на кровать, по-детски подложив кулачки под голову, и замерла. Это предчувствие последнего расставания, таинство ухода праведника — а верим, что это была праведная, «непостыдная» кончина — заставило вспомнить эпическую картину преставления великой М. Д. Кривополеновой, описанную Борисом Шергиным.
Необходимо заметить, что исполнение старинных песен, участие в обрядовой жизни семьи или сельской общины не расценивалось народными певцами как празднословие, безделье. Владение певческим мастерством, знание традиции высоко ценилось в народной среде и, наравне с хозяйской рачительностью, трудолюбием, христианским благочестием, входило в неписаный кодекс добродетелей. «Ну, он себе Царствие Небесное заработал», — говорили старики о талантливом певце.
Д. А. Ветеркова, вспоминая со слезами горячо любимого супруга, недавно ушедшего, рассказывала, что он, умирая, «не велел ей долго горевать»: «Дарья! Никому не отказывай! Пой! Весели народ!» И Дарья Андреевна свято хранила завет мужа, сидя часами с собирателями за старинными обрядовыми песнями, ведущимися «ещё от Потопа», и утешая всех своими остроумными «прИхоматями» (прибаутками).
На родине св. прав. Иоанна Кронштадтского, в доме его внучатого племянника В. И. Колчина в Суре до сих пор хранятся фотографии, от которых веет крестьянской основательностью и молитвенным покоем. На них запечатлён всероссийский Батюшка в окружении любимой сестры и племянниц в старинных северных сарафанах и повязках-«корунах». И в наши дни эти наряды, «колёсные янтари» и огромные серебряные цепи с крестами, алые наплечные платки и тканые пояса «со словами» бережно сохраняются в каждом пинежском доме как память о прошлом, о том времени, когда было «без Бога не до порога», а песни были «из жизни взяты».
В станице Базковской 90-летний донской казак Н. И. Сметанников перед записью надел свой парадный казачий мундир и, вытянувшись в струнку, опершись по-старинному о спинку стула, запел стоя. Мы заерзали на стульях от неловкости и, напомнив о его почтенном возрасте, предложили сесть. На что услышали надолго запомнившийся нам ответ: «Казачьи песни петь, как Богу молиться, надо стоя!».
А. Ф. Спиридонова из тверской деревни Кривцово рассказывала о своей трудной, голодной молодости, пришедшейся на послевоенные годы: «Ничего у нас не было! Но мы пели «Христа» [народный распев тропаря Пасхи]! И были богатые!». Пели его дома и в поле, сажая картошку и на отдыхе.
Как же, очевидно, опасались большевики проявлений народной веры, что во времена коллективизации, по свидетельству старожилов Верхне-Тоемского района Архангельской области, разгоняли народные гуляния — на Троицу или другие церковные праздники — поливая участников хоровода из пожарной «кишки»! За одно только упоминание в песне народных героев Ермака Тимофеевича, Матвея Платова можно было, по рассказам казаков, «угодить на Колыму». Чтобы спасти не только песни от забвения, но и свою собственную жизнь, смекалистые певцы заменяли имена мифологических или исторических героев на имена красных командиров Будённого, Котовского, известных совсем другими «подвигами».
И всё же год за годом уходили люди, «захватившие жизнь ещё до колхозов», «падали вековые дубы», как говорил Ф. А. Абрамов, а с ними уходила в небытие и великая национальная культура.
Вспоминается 1976-й год, моя первая фольклорная экспедиция. Жительница одной из обезлюдивших вологодских деревень заключила рассказ о своей молодости, о прежней жизни словом, от которого оборвалось, похолодело внутри: «Всё изнетилось!..» Всё прошло, кончилось! И не потому, что близится к концу человеческая жизнь — у воспитанного в традиционной культуре крестьянина отношение к смерти всегда было трезво-благодушное. «Чужой век живу!» — говорили о себе «зажившиеся на этом свете» 80-ти-85-тилетние старики. «Изнетилось» — значит, потеряно, утрачено что-то самое ценное для человеческой жизни. И, хотя существующий миропорядок кажется ещё незыблемым, старенькая бабушка, лёжа на печке, уверенно заключает: «Я чаю, эта власть ненадолго!..».
Подводя итог нашего небольшого, далеко не полного рассказа о носителях народной традиции, об удивительных свидетельствах истинно христианского благочестия, не вызывает сомнения, что народное христианское благочестие на Руси не могло утвердиться вопреки фольклорной традиции. Как норма, вершина и итог жизненного пути человека благочестие воспринималось в контексте с его предыдущим активным функционированием как члена крестьянской общины и носителя традиций, с одной стороны, и как члена церковной общины, прихожанина, участвующего в церковных таинствах, с другой. Так, важнейшим для понимания истинного места русского фольклора в системе христианской культуры нам представляется замечание одного архангельского краеведа о том, что люди, «знавшиеся с нечистым», т. е. занимавшиеся колдовством, не могли даже приблизиться к хороводу: их оттуда буквально «выталкивала какая-то сила». И полем брани, где разворачивались главные духовные битвы, где пересекались церковная и народная культура, была душа человеческая.
***
Помните, дорогой читатель, в сколь смешные и нелепые, чреватые непредсказуемыми последствиями ситуации попадает герой весёлой кинокомедии Л. Гайдая «Кавказская пленница» — «фольклорист несчастный», неопытный, наивный Шурик! Как вышел боком ему и окружающим «научный интерес» к одному из национальных символов Кавказа и кавказского застолья. Казалось бы, ну что может быть проще, безобиднее, чем записывать местные обычаи, тосты и т. д. (если только не перебрать с количеством алкоголя — еще одна фольклорная ситуация, тонко подмеченная нашим знаменитым комедиографом)! Несомненно, общение фольклориста и исполнителя-информатора должно выходить за рамки «вопросника по фольклорной практике», и это целиком зависит как от профессионализма, так и от человеческой, духовной зрелости, состоятельности собирателя[3]. И на этом пути работа фольклориста-собирателя таит в себе гораздо больше неожиданностей и, подчас, нешуточных опасностей, чем поджидали героя А. Демьяненко.
Показательна в этом отношении история, услышанная ещё в 70-е годы в период фольклорной собирательской практики. В одну из глухих вологодских деревень заехали как-то собиратели древностей и силой забрали у старушки семейную реликвию — икону «древлего письма». Женщина не перенесла удара и скончалась. В деревне, в которой до того не знали других замков, кроме приставленной к двери палочки-батога, стали запираться при виде незнакомца. Так мы, группа собирателей, после долгого пешего перехода в сырую, промозглую погоду остались на улице. Сложные, противоречивые чувства одолевали нас: и досада, и стыд за столь беззаконный способ «собирания и изучения» предметов традиционной культуры нашими братьями по цеху, и восхищение духовным подвигом безвестной русской женщины, не пережившей надругательства над святыней. На меня, ещё некрещёную, эта история произвела глубокое впечатление: значит, есть что-то для русского человека, думала я, что дороже самой жизни! И вместе с тем, заставила задуматься, до каких пределов простираются наши «права» собирателей, хотя бы и подтверждённые документами солидных учреждений. Это был один из первых полученных в экспедиции уроков, свидетельствующих о необходимости соблюдения учёным-собирателем правил собирательской этики. О том, что эти правила суть евангельские заповеди, мы узнали гораздо позже.
Несколько лет назад, будучи в экспедиции и гуляя по холмистым окрестностям Белой Калитвы, наши ребята распелись, «разошлись» так, что из ближайших домов завыглядывали местные жители: «А что тут происходит, что это за люди играют песни посреди бела дня?». К слову, какие только, подчас комические, эпитеты в свой адрес мы не слышали за годы работы: туристы, альпинисты, баптисты, геологи, «цыгане в белом», торговцы, охотники! Понятно, что десант из 10-15-ти человек с огромными рюкзаками, аппаратурой не может не вызывать у людей самый живейший интерес. Но на этот раз комментарии казаков, услышанные нами, превзошли все ожидания: «Это нашего Бога девки!».
Нина Николаевна Артеменко, художественный руководитель фольклорного ансамбля «ДОМОСТРОЙ»
[1] Будучи в течение нескольких лет заведующим кафедрой советской литературы Ленинградского Государственного Университета, членом Союза писателей СССР, Ф. А. Абрамов одним из первых деятелей советской культуры признаёт: «Величайшее преступление марксизма-ленинизма перед русским народом и всем человечеством, что он убил в людях веру в Бога. Человек начался не с труда. Человек начался с того момента, когда узнал Бога» (из дневников писателя).
[2] Ох уж эта неудобопроизносимая народная транскрипция богослужебных текстов, повергающая в праведный гнев докторов богословия! Не раз и нам приходилось ломать голову, расшифровывая эти тексты!
[3] На тему мастерства собирателя есть такая байка-анекдот. Один незадачливый диалектолог никак не мог выудить у старушки какое-нибудь редкостное диалектное словцо. Начав катать туда-сюда бревно, лежавшее у дороги, он и спрашивает: «Бабка-бабка, а что я делаю?» — «Да дурака валяешь, милок!», — был ответ «бабки». Воистину, «по плодам их узнаете их»!

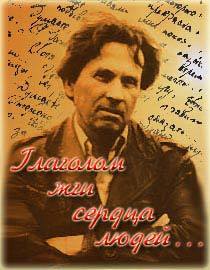
Нет комментариев
Добавьте комментарий первым.