А. Змиев. Значение Отечественной войны в истории русского самосознания. Война и русская культура.
 Война, рассматриваемая отвлеченно вне всяких исторических и культурных условий, есть, конечно, зло. Проповедь и усилия достичь всеобщего мира и братства народов должны быть приветствуемы, как сознательная подготовка идеала будущего. Даже более того, можно ясно доказать, что война в качестве внутреннего морального противоречия, присущего ей, должна стать рано или поздно невозможной и отойти в область истории, как средневековые орлалии и суды Божьи. Но рассматриваемая исторически, война должна явиться для всякого непредубежденного исследователя не только выражением варварства и грубости общества и человечества, но зачастую и могучим рычагом и двигателем культуры, и это как объективно, т. е. в смысле созидания нового мира и разрушения старого, так и субъективно, для сознания каждого человека, в смысле начала, будящего чувства благородные и возвышенные.
Война, рассматриваемая отвлеченно вне всяких исторических и культурных условий, есть, конечно, зло. Проповедь и усилия достичь всеобщего мира и братства народов должны быть приветствуемы, как сознательная подготовка идеала будущего. Даже более того, можно ясно доказать, что война в качестве внутреннего морального противоречия, присущего ей, должна стать рано или поздно невозможной и отойти в область истории, как средневековые орлалии и суды Божьи. Но рассматриваемая исторически, война должна явиться для всякого непредубежденного исследователя не только выражением варварства и грубости общества и человечества, но зачастую и могучим рычагом и двигателем культуры, и это как объективно, т. е. в смысле созидания нового мира и разрушения старого, так и субъективно, для сознания каждого человека, в смысле начала, будящего чувства благородные и возвышенные.
При критике исторических событий нужно помнить, что вообще такие понятия, как зло и добро, истина и ложь, должны быть понимаемы в несколько ином значении, чем в частной и обыденной жизни. Легко с узко-моральной точки зрения критиковать великих героев истории, Алкивиада, Цезаря, Наполеона, вскрывать мелочные чувства и мотивы их поступков и действий, их честолюбие, себялюбие, жестокость, и не замечать существенного и всеобщего начала их действий. Такая критика не понимает своего предмета: она не видит и с т о р и ч е с к о г о значения критикуемых ею событий, погружена всецело в частное и внешнее. Всякий великий человек в известном смысле преступник, поправший законы данной страны, данного времени, страстями своими опрокинувший кумиры. В то же время он более чем моральная личность, он является как бы воплощением и орудием мировой души, которая находит свое моральное оправдание иным путем, чем отдельная человеческая личность.
Гибель цветущих городов, разорение семейств ни в чем неповинных, разрушение памятников искусства может волновать, как нечто бессмысленное и свирепое, история кажется с этой точки зрения безумием и злом, все стремления — ложными, прогресс — бес-смыслицей. Зло преодолевается не злом, а только добром. Непротивление злу кажется единственно истинным принципом.
Должно помнить, что такое абстрактное представление лишено реального значения. Добро и зло суть только отвлеченные определения действительных сил. В качестве крайностей они совершенно не могут ни влиять, ни видоизменять друг друга: не добро борется со злом и обратно, а человек борется против зла и стремится к добру. Сфера их действия есть всегда нечто третье: люди и человеческие отношения. В сердцах же людей добро и зло суть силы и страсти, которые не равнодушно уживаются рядом, а которые необходимо ополчаются друг против друга и вызывают друг друга. В последнем падении человек обретает обращение к Богу, и возносясь выше, он зрит над собою ад своих злых страстей.
Одним из таких выражений этой исконной борьбы является и война, которая в своей основе так же существенна для этого мира, как противоречие и раздор вообще (ср. «Мысли о войне и раздоре» Гераклита).
Не нужно вовсе разделять оптимистической концепции истории, признающей историческое значение только за теми событиями, которые ведут человечество по пути к свободе, чтобы оправдывать в известных случаях войну. Я напомню только рассказ генерала из «Трех разговоров» Вл. Соловьева, как спешил русский отряд в последнюю турецкую войну на выручку мирным армянам, которых резали баши-бузуки, и о желании этого отряда уничтожить и расстрелять врага.
 Поэтому жестокость и безумие войны не должны заслонять в нашем представлении ее добра и разума. Войны греко-персидские, походы крестоносцев, французских революционных армий, имеют громадное культурное значение. Они в конец разрушали гниющие цивилизации и порождали новый мир и новую культуру. В то же время они клали непроходимую пропасть между новым и старым, так что возврат к отжившим формам становился немыслимым. Каждый этап своего развития человечество щедро полило кровью, и эта кровь освящала и охраняла завоевание сильнее всяких магических знаков.
Поэтому жестокость и безумие войны не должны заслонять в нашем представлении ее добра и разума. Войны греко-персидские, походы крестоносцев, французских революционных армий, имеют громадное культурное значение. Они в конец разрушали гниющие цивилизации и порождали новый мир и новую культуру. В то же время они клали непроходимую пропасть между новым и старым, так что возврат к отжившим формам становился немыслимым. Каждый этап своего развития человечество щедро полило кровью, и эта кровь освящала и охраняла завоевание сильнее всяких магических знаков.
В сфере субъективного духа война пробуждает чувства, никогда, быть может, не ставшие вполне сознанными. Можно сказать, что войны обнажают души людей: человек робкий становится еще более робким, и малодушный обнаруживается явно таким, какой он есть, никакие маски не помогают перед лицом последней опасности и обратно: человек решительный и храбрый обретает снова свою мощь, часто усыпленную ежедневностью. Подобно тому как метод пределов в математике дает возможность решения теорем, недоказуемых иным способом, так точно и война ставит на предел волю, и в этом последнем напряжении обнаруживается вдруг бесконечная природа человеческого духа, его возвышенность над чувственностью и плотью, торжество бессмертного начала над смертью.
I. Культура русская создавалась по преимуществу войной. Весьма метко определил В. О. Ключевский начало и возникновение национального Московского государства: «Оно родилось на Куликовом поле, а не в скопидомном сундуке Ивана Калиты». Действительно, после разгрома степью торгового Киевского государства, Россия, испепеленная и сожженная, была сжата врагами, превосходящими ее и надвигающимися на нее едино-временно с востока и запада. Всякая культурная и мирная работа предполагала мир со стороны границ, и потому только меч мог обеспечить самое возможность самостоятельно-го внутреннего развития, – возможность народа. К Москве, ставшей впервые за общерусское дело на Куликовом поле, собираются все живые элементы народа, отстаивающие свое национальное самоопределение и свою религию. Москва становится центром России. В тоже время Московское государство получает по преимуществу в о е н н у ю организацию. Классы и сословия, частная собственность, даже свобода личная, становятся в зависимость от нужд государства, поглощаются ими, как в длящемся военном положении: одни несут сторожевую службу, принимают непосредственное участие в охране государства (служилые люди), другие обложены податью (тяглые люди) для военных нужд. С возрастанием этих нужд в XVII веке первоначальные сословия еще более фиксируются и закрепощаются, всем ведется учет (писцовые книги), как в осажденном городе. Государство строится сверху, а не органически снизу, как в мирное время.
II. И опять война и ее нужды дают поворот или, быть может, переворот внутренней организации Московского государства при Петре Великом. Его реформы можно рассматривать, как частности единой военной реформы, установившей регулярную армию и флот. Победа над шведами закрепляет целесообразность и жизненность этих реформ для ближайших приемников Петра.
Возникновение русской литературы
III. Падение сословного слоя и начало современной нам России точно так же связано с войной. В 40-х годах у передовых деятелей (Герцен) не было надежды ни на правительство, ни на народ и только Cевастопольский погром заставляет покончить со ста-рым порядком.
Также исключительное значение войны по сравнению, например, с Англией, поло-жило своеобразный отпечаток на русскую жизнь: в этом наша слабость и наша сила. Русская действительность – тяжелая и часто жестокая. Государство тяготеет над нами, как рок, русские люди чувствуют как бы извне наложенную на них руку. Все мы несем тягло и напрасно силимся скинуть его с себя. Культура задавлена, народ беден и темен. Реформы проходят туго, с неимоверными усилиями и часто слишком поздно. Мы дивимся легкости и приятности жизни за границей и беспомощно взираем на нашу скудность и бедноту.
И в этом наша сила, ибо веками воспитанный в борьбе, лишениях и трудах, русский народ, стоек и крепок, как равнинный дуб, которого не вырвут никакие аквилоны. Поражения нам не страшны, ибо они будят лишь нашу энергию, усилия, питают силы. В годину испытания, в час мировой борьбы русский мирный, земледельческий народ ощутит свое отечество не только как мачеху, но и как мать, и встанет на ее защиту, грозный и великий.
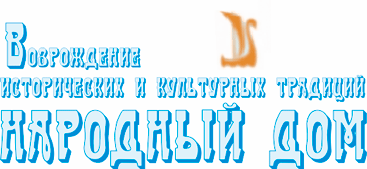
Нет комментариев
Добавьте комментарий первым.